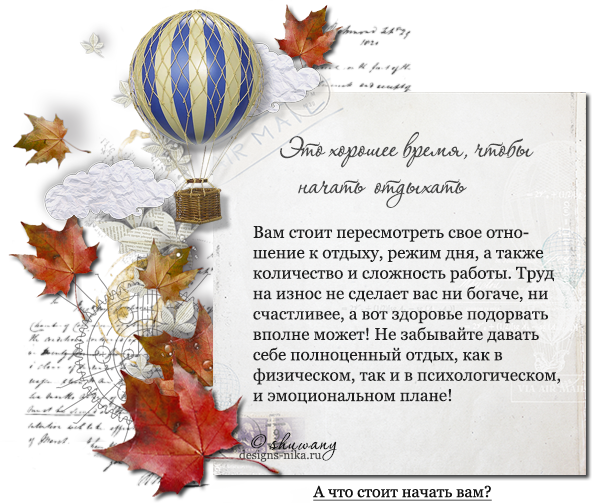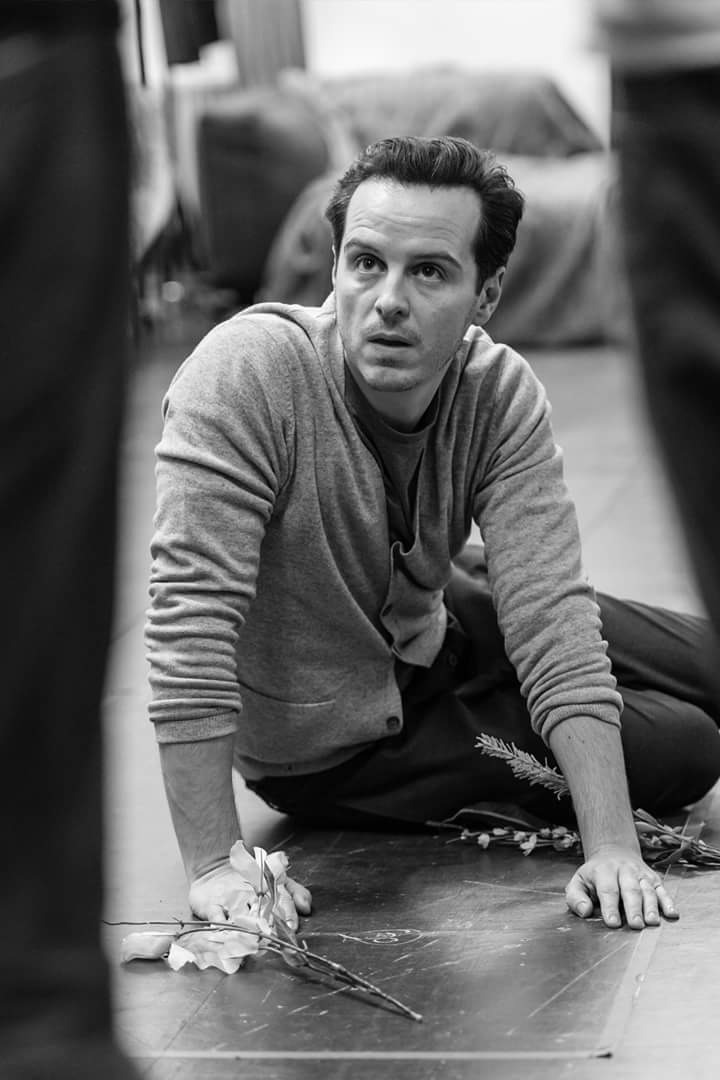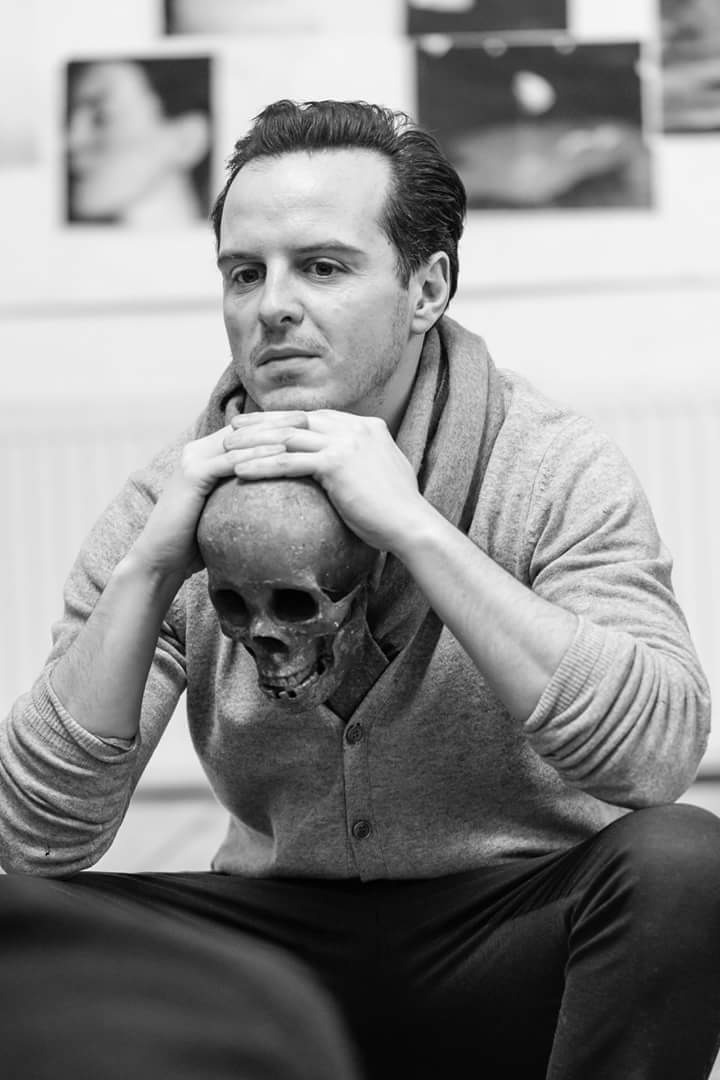пятница, 01 сентября 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
четверг, 31 августа 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
Мечтатель он, этот ваш Сапожников. Но без мечтателей никуда, кто-то ведь должен выходить за рамки общепринятого, выдавать сочетания несочетаемого, вдохновлять других на свершения большие и малые и просто делать мир чуточку лучше.
Никогда же не знаешь, от кого ждать гениальной идеи. Точнее, думаешь, что знаешь, когда считаешь, что великий человек должен соответствовать каким-то параметрам, у него на лбу должно быть написано, что он великий, у него должны быть награды и признания его величия, но может быть и по-другому. Вот он, Сапожников, невзрачный, неприметный, говорит часто какую-то блажь, ни заслуг, ни званий не имеет, но говорит дельные вещи. Если прислушаться к нему, конечно, и забыть обо всех своих представлениях о величии. Незамутненным умом, не скованным разными условностями и стереотипами, Сапожников умеет подмечать шероховатости и видеть ситуацию совсем с иного ракурса, и то, что поначалу, воспринимается, как фантазия (ну в самом деле, какая Атлантида, Сапожников, ты ж не маленький, тебе 40 с лишним лет, а все туда же, окстись!), потом приобретает логику и рациональность, а затем появляется мысль, что все гениальное действительно просто, и это не пустые слова: пока академики «городят огороды», можно было бы просто посмотреть на все иначе и вот оно, решение проблемы.
Однако, при всей своей мудрости Сапожников все-таки удивительно неприспособлен к реалиям. Он весь какой-то несуразно-неприкаянный. Как географ, который глобус пропил. Вроде бы добрый и светлый человек, но быть с ним довольно трудно, потому что он своими мыслями живет не здесь.
К авторскому стилю нужно приспособиться, по крайней мере, мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к отсутствию хронологии и своеобразной логике персонажей, причем, там у всех свои странности, не только у главного героя. А в общем-то, мне понравилось; ближе к концу автор ушел в общечеловеческие вопросы, в гуманизм и проблемы мироздания, да так и оставил и своих героев и меня заодно в состоянии легкой грусти и надежды на светлое будущее.
Никогда же не знаешь, от кого ждать гениальной идеи. Точнее, думаешь, что знаешь, когда считаешь, что великий человек должен соответствовать каким-то параметрам, у него на лбу должно быть написано, что он великий, у него должны быть награды и признания его величия, но может быть и по-другому. Вот он, Сапожников, невзрачный, неприметный, говорит часто какую-то блажь, ни заслуг, ни званий не имеет, но говорит дельные вещи. Если прислушаться к нему, конечно, и забыть обо всех своих представлениях о величии. Незамутненным умом, не скованным разными условностями и стереотипами, Сапожников умеет подмечать шероховатости и видеть ситуацию совсем с иного ракурса, и то, что поначалу, воспринимается, как фантазия (ну в самом деле, какая Атлантида, Сапожников, ты ж не маленький, тебе 40 с лишним лет, а все туда же, окстись!), потом приобретает логику и рациональность, а затем появляется мысль, что все гениальное действительно просто, и это не пустые слова: пока академики «городят огороды», можно было бы просто посмотреть на все иначе и вот оно, решение проблемы.
Однако, при всей своей мудрости Сапожников все-таки удивительно неприспособлен к реалиям. Он весь какой-то несуразно-неприкаянный. Как географ, который глобус пропил. Вроде бы добрый и светлый человек, но быть с ним довольно трудно, потому что он своими мыслями живет не здесь.
К авторскому стилю нужно приспособиться, по крайней мере, мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к отсутствию хронологии и своеобразной логике персонажей, причем, там у всех свои странности, не только у главного героя. А в общем-то, мне понравилось; ближе к концу автор ушел в общечеловеческие вопросы, в гуманизм и проблемы мироздания, да так и оставил и своих героев и меня заодно в состоянии легкой грусти и надежды на светлое будущее.
вторник, 29 августа 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
*Мда. Ничего не смотрится, не пишется, читается с трудом и мысли по итогу приходится из себя выковыривать. "Крокодил не ловится, не растет кокос", в общем.*
Как сильна воля случая: один запущенный снежок в детской игре, а последствия каковы! Один непосредственный участник ударился в историю и жития святых, другой, напрямую не задействованный, стал всемирно известным фокусником. А все из-за какого-то снежка. Если поддержать дэвисовскую любовь к цитированию Библии: пути господни неисповедимы.
Путь Магнуса Айзенгрима к славе и признанию был тернистым. Люди в общем-то любят драматичные истории, в которых все хорошо заканчивается, но не всегда готовы выслушать правду, особенно, если она связана с жестокостью, насилием и прочими неприятными явлениями, о которых не хочется думать, что они есть в обществе. Поэтому для простых зрителей шоу Айзенгрима есть его псевдо-автобиография, но поскольку каждому хочется рассказать о себе любимом, то нам достается «непричесанные» воспоминания Пола, рассказанные им самим. Впрочем, наблюдая любовь фокусника к таинственности и постоянный флёр недосказанности, создается впечатление, что в некоторых местах он приукрасил, да и сообщил далеко не всё.
Но и того, что было сказано, достаточно, чтобы представить себе неприглядное закулисье. Изнанка с виду прекрасного, яркого и праздничного мира чудес на поверку оказалась жестокой, равнодушной, неприветливой к новичкам, которым придется зубами и когтями защищать свое место под солнцем и свое право там находиться. Кроме борьбы с внешними обстоятельствами здесь еще и много борьбы с самим собой: в конце концов, одного таланта мало, без извечных терпения и труда никак.
Ответ на вопрос «Кто убил Боя Стонтона?» не имеет большого значения, это событие остается на периферии и, на мой взгляд, это еще один случай, как запущенный снежок, случай, который становится катализатором и позволяет выговориться и Рамзи, и Магнусу-Полу.
Как сильна воля случая: один запущенный снежок в детской игре, а последствия каковы! Один непосредственный участник ударился в историю и жития святых, другой, напрямую не задействованный, стал всемирно известным фокусником. А все из-за какого-то снежка. Если поддержать дэвисовскую любовь к цитированию Библии: пути господни неисповедимы.
Путь Магнуса Айзенгрима к славе и признанию был тернистым. Люди в общем-то любят драматичные истории, в которых все хорошо заканчивается, но не всегда готовы выслушать правду, особенно, если она связана с жестокостью, насилием и прочими неприятными явлениями, о которых не хочется думать, что они есть в обществе. Поэтому для простых зрителей шоу Айзенгрима есть его псевдо-автобиография, но поскольку каждому хочется рассказать о себе любимом, то нам достается «непричесанные» воспоминания Пола, рассказанные им самим. Впрочем, наблюдая любовь фокусника к таинственности и постоянный флёр недосказанности, создается впечатление, что в некоторых местах он приукрасил, да и сообщил далеко не всё.
Но и того, что было сказано, достаточно, чтобы представить себе неприглядное закулисье. Изнанка с виду прекрасного, яркого и праздничного мира чудес на поверку оказалась жестокой, равнодушной, неприветливой к новичкам, которым придется зубами и когтями защищать свое место под солнцем и свое право там находиться. Кроме борьбы с внешними обстоятельствами здесь еще и много борьбы с самим собой: в конце концов, одного таланта мало, без извечных терпения и труда никак.
Ответ на вопрос «Кто убил Боя Стонтона?» не имеет большого значения, это событие остается на периферии и, на мой взгляд, это еще один случай, как запущенный снежок, случай, который становится катализатором и позволяет выговориться и Рамзи, и Магнусу-Полу.
пятница, 04 августа 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
История умалчивает о времени написания книги, но, сдается мне, написана она под влиянием «Имени розы». По крайней мере, средневековье, монахи и заботливо приложенный к тексту план монастыря, навевают соответствующие ассоциации.
Два монаха – Бенедикт и Бенжамен («фи» автору за двух Бенов: как будто имен больше нет) – пытаются разобраться с тайной прошлого. Брат Бенедикт, давний житель обители, свято уверен, что в XIII веке в их монастыре произошло нечто странное: все немногочисленные послушники исчезли, кроме настоятеля, а затем на место пропавших отец де Карлюс набрал новых послушников и дал им имена исчезнувших. Афера настоятеля осталась незамеченной на многие века, и лишь брат Бенедикт заметил некоторые нестыковки в хрониках. Энтузиазма монаха никто не разделил, кроме молодого послушника Бенжамена, который, волею случая, наткнулся на пергамент со скрытым текстом.
Николе пытается создать интригу не только за счет тайн прошлого, но и через отношения Бенедикта и Бенжамена, однако, это у него получается не слишком хорошо: несмотря на то, что оба монаха что-то утаивают друг от друга, ощущения скрытой угрозы, возможного нападения одного Бена на другого, нет. Остальные послушники и аббат хоть и не чинят препятствий, но и не разделяют интереса к данной теме, поэтому героям приходится осторожничать и не афишировать своих действий.
В ходе расследования монахи делают открытия, ставящие всё с ног на голову, и первоначальные версии рушатся одна за другой. Объяснение произошедших событий (и актуальных, и давних), хоть и несколько романтизированное, в целом соответствует духу и атмосфере книги и оставляет приятные впечатления.
Два монаха – Бенедикт и Бенжамен («фи» автору за двух Бенов: как будто имен больше нет) – пытаются разобраться с тайной прошлого. Брат Бенедикт, давний житель обители, свято уверен, что в XIII веке в их монастыре произошло нечто странное: все немногочисленные послушники исчезли, кроме настоятеля, а затем на место пропавших отец де Карлюс набрал новых послушников и дал им имена исчезнувших. Афера настоятеля осталась незамеченной на многие века, и лишь брат Бенедикт заметил некоторые нестыковки в хрониках. Энтузиазма монаха никто не разделил, кроме молодого послушника Бенжамена, который, волею случая, наткнулся на пергамент со скрытым текстом.
Николе пытается создать интригу не только за счет тайн прошлого, но и через отношения Бенедикта и Бенжамена, однако, это у него получается не слишком хорошо: несмотря на то, что оба монаха что-то утаивают друг от друга, ощущения скрытой угрозы, возможного нападения одного Бена на другого, нет. Остальные послушники и аббат хоть и не чинят препятствий, но и не разделяют интереса к данной теме, поэтому героям приходится осторожничать и не афишировать своих действий.
В ходе расследования монахи делают открытия, ставящие всё с ног на голову, и первоначальные версии рушатся одна за другой. Объяснение произошедших событий (и актуальных, и давних), хоть и несколько романтизированное, в целом соответствует духу и атмосфере книги и оставляет приятные впечатления.
вторник, 01 августа 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
Слава б-гу, это закончилось. Остановились бы на трех сезонах - и было бы замечательно, а так - наблюдать агонию сценаристов и персонажей изначально прекрасного сериала не очень-то приятно.
Фмнал для героев выдался трагичным и мрачным. Кого-то не стало, кто остался, тот уже не тот. Сценаристы выдохлись, и это заметно по тому, что из 6 серий одна была посвящена Голему-Натаниэлю (это ж Робин Гуд, тот самый Робин Гуд из одноименного сериала, где Армитэдж - Гизборн), а последняя была наполовину из флэшбеков.
Было тревожно наблюдать и гадать, подставят ли скрывающуюся троицу их ближние. Ближние подставили, и не надо мне говорить, что они по незнанию или изначально из благих намерений. Драммонд оказался слабохарактерным: есть такие люди, которые в простых ситуациях и повседневной жизни - милахи и все делают правильно, но в сложных ситуациях выбора они подводят, а есть такие, как Тэтчер, которые с виду скользкие, но потом умеют собраться и сделать правильный выбор. В общем, кто-то после сложного жизненного опыта "падает", а кто-то растет.
Вот Эдмунд Рид, кстати, упал в моих глазах. Если изначально о нем были только положительные впечатления, то потом, сезон за сезоном, он сдавал свои позиции. Многие его поступки необъяснимы логикой, ярость, которая его захлестывала, приводила к необратимым последствиям и преступлениям. И далеко не все его действия можно оправдать жаждой справедливости и правды. Вон, на бедного ребенка Робина наорал и запугал парнишку. Неудивительно, что в конце Эдмунд остается один, и даже Матильда с ним не общается. И когда она говорит Драму, что папа не приедет к ним в гости, это не выглядит, как ее понимание того, что папе работа дороже, это выглядит как ее односторонний отказ общаться с ним, ведь до этого они не упоминали работу, не было предпосылок к такой фразе.
Если говорить о второй сюжетной линии сезона - о Големе и Огастесе, то она мне понравилась. Здесь есть какая-то попытка объяснить личность преступника, его мышление. И если Натаниэль вызывает сочувствие, потому что это приступы ярости и он не может себя контролировать, то Огастес вызывает отвращение, потому что складывается впечатление, что ему нравится совершать преступления, убивать, а защита брата - только прикрытие, оправдание для себя.
В общем, впечатления смутные и скорее печальные, как и финал сериала.
Фмнал для героев выдался трагичным и мрачным. Кого-то не стало, кто остался, тот уже не тот. Сценаристы выдохлись, и это заметно по тому, что из 6 серий одна была посвящена Голему-Натаниэлю (это ж Робин Гуд, тот самый Робин Гуд из одноименного сериала, где Армитэдж - Гизборн), а последняя была наполовину из флэшбеков.
Было тревожно наблюдать и гадать, подставят ли скрывающуюся троицу их ближние. Ближние подставили, и не надо мне говорить, что они по незнанию или изначально из благих намерений. Драммонд оказался слабохарактерным: есть такие люди, которые в простых ситуациях и повседневной жизни - милахи и все делают правильно, но в сложных ситуациях выбора они подводят, а есть такие, как Тэтчер, которые с виду скользкие, но потом умеют собраться и сделать правильный выбор. В общем, кто-то после сложного жизненного опыта "падает", а кто-то растет.
Вот Эдмунд Рид, кстати, упал в моих глазах. Если изначально о нем были только положительные впечатления, то потом, сезон за сезоном, он сдавал свои позиции. Многие его поступки необъяснимы логикой, ярость, которая его захлестывала, приводила к необратимым последствиям и преступлениям. И далеко не все его действия можно оправдать жаждой справедливости и правды. Вон, на бедного ребенка Робина наорал и запугал парнишку. Неудивительно, что в конце Эдмунд остается один, и даже Матильда с ним не общается. И когда она говорит Драму, что папа не приедет к ним в гости, это не выглядит, как ее понимание того, что папе работа дороже, это выглядит как ее односторонний отказ общаться с ним, ведь до этого они не упоминали работу, не было предпосылок к такой фразе.
Если говорить о второй сюжетной линии сезона - о Големе и Огастесе, то она мне понравилась. Здесь есть какая-то попытка объяснить личность преступника, его мышление. И если Натаниэль вызывает сочувствие, потому что это приступы ярости и он не может себя контролировать, то Огастес вызывает отвращение, потому что складывается впечатление, что ему нравится совершать преступления, убивать, а защита брата - только прикрытие, оправдание для себя.
В общем, впечатления смутные и скорее печальные, как и финал сериала.
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
«Следы в пыли» являются логическим продолжением «Века криминалистики». Зарождение новой науки, препятствия, с которыми столкнулись исследователи, экспериментально полученные данные ставили перед учеными все новые и новые вопросы, приводили к пониманию того, что они еще только в начале пути и многое по-прежнему остается неизвестным. Постепенно интерес криминалистов обращался к все более мелким, незаметным, но от этого не менее важным объектам: пыли, следам растений, тканей.
Торвальд подробно рассказывает об изучении микроскопических следов, на примере конкретных дел показывает, как продвигалось расследование и какое решающее значение обретали эти невидимые глазом улики. Здесь на помощь криминалистам и следователям приходят последние достижения науки и техники, которым автор также уделяет много времени, рассказывая о рентгене, о динамике в изучении волос, об усовершенствовании методов сбора пыли с места преступления и ее изучения. Не забывает Торвальд и о самих исследователях, тех, кто, несмотря на все препоны, старается добраться до истины, получить ответы на вопросы.
Так же, как и в «Веке криминалистики» Юрген Торвальд затрагивает тему формирования правоохранительной структуры, но на этот раз говорит не о европейских странах, а о далеких Канаде и Австралии, где криминалистика тоже развивалась, но со своими нюансами и спецификой.
На фоне грамотного сочетания теории и практики, реальности и научных гипотез в книгах Торвальда, особенно умилительно выглядят попытки авторов предисловий внести долю скепсиса, добавить ложку дегтя, чтобы показать несовершенство западного капиталистического подхода к науке. Однако ж, им это не удается, и возможное первоначальное недоверие к концу книги сменяется уверенным уважением к исследователям независимо от их национальности и политических предпочтений.
Торвальд подробно рассказывает об изучении микроскопических следов, на примере конкретных дел показывает, как продвигалось расследование и какое решающее значение обретали эти невидимые глазом улики. Здесь на помощь криминалистам и следователям приходят последние достижения науки и техники, которым автор также уделяет много времени, рассказывая о рентгене, о динамике в изучении волос, об усовершенствовании методов сбора пыли с места преступления и ее изучения. Не забывает Торвальд и о самих исследователях, тех, кто, несмотря на все препоны, старается добраться до истины, получить ответы на вопросы.
Так же, как и в «Веке криминалистики» Юрген Торвальд затрагивает тему формирования правоохранительной структуры, но на этот раз говорит не о европейских странах, а о далеких Канаде и Австралии, где криминалистика тоже развивалась, но со своими нюансами и спецификой.
На фоне грамотного сочетания теории и практики, реальности и научных гипотез в книгах Торвальда, особенно умилительно выглядят попытки авторов предисловий внести долю скепсиса, добавить ложку дегтя, чтобы показать несовершенство западного капиталистического подхода к науке. Однако ж, им это не удается, и возможное первоначальное недоверие к концу книги сменяется уверенным уважением к исследователям независимо от их национальности и политических предпочтений.
суббота, 22 июля 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
четверг, 20 июля 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
С творчеством Леены Лехтолайнен я уже была знакома по ее дебютной книге «Мое первое убийство», и знакомство это надолго меня отпугнуло и от автора, и от скандинавских детективов. Вторая встреча с финской писательницей окончательно убедила меня, что нам с ней не по пути.
В книге есть все, что нужно для детектива: полицейские, убийство, преступник, но при этом книга совершенно не воспринимается как детектив. Такое ощущение, что даже саму героиню, Марию Каллио, это расследование не слишком интересует, ее больше волнует встреча с ее первой любовью и мысли о том, стоит ли выходить замуж за своего нынешнего мужчину.
Книга скорее напоминает описание нравов маленького провинциального городка, где все друг друга знают, все друг с другом связаны, в том числе и главная героиня. Вернувшись в родной город, Мария почти сразу же приступает к расследованию убийства художницы Меритты Флет. Допрос свидетелей и сбор информации порой напоминают обывательские беседы и обсуждение местных слухов и сплетен. К тому же Мария по ходу дела встречает своих школьных знакомых, и допрос плавно перерастает в воспоминания о старых добрых временах, когда они все вместе играли в любительской рок-группе.
Развязка получилась невнятная: вроде как все копошились, что-то делали, искали улики и тут, вдруг откуда ни возьмись, Марию озарило. Но и озарение, и последующая поимка преступника, которая должна была быть напряженной и рискованной, не удивляют и не придают динамики происходящему.
В книге есть все, что нужно для детектива: полицейские, убийство, преступник, но при этом книга совершенно не воспринимается как детектив. Такое ощущение, что даже саму героиню, Марию Каллио, это расследование не слишком интересует, ее больше волнует встреча с ее первой любовью и мысли о том, стоит ли выходить замуж за своего нынешнего мужчину.
Книга скорее напоминает описание нравов маленького провинциального городка, где все друг друга знают, все друг с другом связаны, в том числе и главная героиня. Вернувшись в родной город, Мария почти сразу же приступает к расследованию убийства художницы Меритты Флет. Допрос свидетелей и сбор информации порой напоминают обывательские беседы и обсуждение местных слухов и сплетен. К тому же Мария по ходу дела встречает своих школьных знакомых, и допрос плавно перерастает в воспоминания о старых добрых временах, когда они все вместе играли в любительской рок-группе.
Развязка получилась невнятная: вроде как все копошились, что-то делали, искали улики и тут, вдруг откуда ни возьмись, Марию озарило. Но и озарение, и последующая поимка преступника, которая должна была быть напряженной и рискованной, не удивляют и не придают динамики происходящему.
понедельник, 17 июля 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
Да уж, кажется, такого количества информации, прямо не относящейся к сюжету, я не читала еще ни в одной книге. Если поначалу приятно удивила и порадовала саркастичность Гюго, которая как-то примирила с его словоохотливостью, то когда стало понятно, что рассуждений на отвлеченные темы и риторических вопросов будет больше, чем истории Гуинплена, я несколько приуныла.
Любая мысль растягивается на предложения и предложения, в которых много пафоса и повторений одного и того же. Вкупе с авторской манерой использовать риторические вопросы и давать на них такие же ответы, это не облегчает чтение, скорее, делает его довольно тоскливым и утомительным. Бесконечно много и обстоятельно рассказывая об общественном устройстве в Англии, Гюго не упускает случая уколоть вечных соперников и намекнуть, что посредственные англичане пользуются идеями прогрессивных французов, но даже чужие идеи не способны полноценно реализовать.
Сюжет и персонажи теряются за авторским многословием, за описанием компрачикосов, перечислением английских знатных семейств и королевского церемониала. Появление Баркильфедро обещало грандиозную интригу, по крайней мере, мне он рисовался кем-то вроде серого кардинала, не воспринимаемого всерьез, но по-своему влиятельного. По существу оказалось, что он делал свое дело – любой другой человек, оказавшись в этой должности, должен был бы сделать то, что сделал Баркильфедро.
Из-за того, что главные герои часто пропадают из поля зрения, к ним не получается привязаться и разделять их эмоции, сопереживать им. Гуинплен мечется в своих терзаниях, Урсус прячет свои тревоги за маской внешнего хладнокровия, Дея ничего не знает, запертая в своей слепоте, но все это воспринимается отстраненно.
Как бы то ни было, это классика, с которой стоит ознакомиться, да и широта кругозора автора и спектр затронутых тем впечатляют.
Любая мысль растягивается на предложения и предложения, в которых много пафоса и повторений одного и того же. Вкупе с авторской манерой использовать риторические вопросы и давать на них такие же ответы, это не облегчает чтение, скорее, делает его довольно тоскливым и утомительным. Бесконечно много и обстоятельно рассказывая об общественном устройстве в Англии, Гюго не упускает случая уколоть вечных соперников и намекнуть, что посредственные англичане пользуются идеями прогрессивных французов, но даже чужие идеи не способны полноценно реализовать.
Сюжет и персонажи теряются за авторским многословием, за описанием компрачикосов, перечислением английских знатных семейств и королевского церемониала. Появление Баркильфедро обещало грандиозную интригу, по крайней мере, мне он рисовался кем-то вроде серого кардинала, не воспринимаемого всерьез, но по-своему влиятельного. По существу оказалось, что он делал свое дело – любой другой человек, оказавшись в этой должности, должен был бы сделать то, что сделал Баркильфедро.
Из-за того, что главные герои часто пропадают из поля зрения, к ним не получается привязаться и разделять их эмоции, сопереживать им. Гуинплен мечется в своих терзаниях, Урсус прячет свои тревоги за маской внешнего хладнокровия, Дея ничего не знает, запертая в своей слепоте, но все это воспринимается отстраненно.
Как бы то ни было, это классика, с которой стоит ознакомиться, да и широта кругозора автора и спектр затронутых тем впечатляют.
суббота, 15 июля 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
понедельник, 10 июля 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
Если кратко - мне не понравилось. Ни в сравнении с фильмом Уайлдера, ни в сравнении с первоисточником Агаты Кристи, ни в сравнении со свежим "И никого не стало".
Все то, что было добавлено сценаристами, усиление тех нюансов, которые были у автора, очень "царапали". По финалу складывалось впечатление, что фильм был не о свидетеле обвинения и мастерски продуманной мизансцене свидетельских показаний, а об адвокате Мэйхеме. Его жизненная история и трагедия несколько затмили основную сюжетную линию - преступление.
Линия с озабоченной горничной выбесила. Эти недвусмысленные намеки на лесбиянство были и в "Никого не стало", но там были другие герои, следовательно, времени этому уделялось меньше, там были другие сильные стороны в постановке, и это спасало ситуацию. Здесь же горничная МакИнтайр была мало того что озабоченной, так еще и истеричкой.
Концовка фильма меня разочаровала. У Кристи все было лаконично. Последняя фраза, расставляющая все точки над i, - и все, читатель остается огорошенным, наедине со своими мыслями и переживаниями. Сценаристы же решили эту тему развить, показать подоплеку преступления и это пустословие все испортило, эффект пропал.
Выбор актеров не восхитил, хотя Хоул и Райзборо подходят, создавая своим внешним видом иллюзию наивности и простоты, хотя на самом деле это далеко не так. Понравилась Ким Кэтролл в роли неюной охотницы за молодым телом, и Тоби Джонс, конечно, вне конкуренции.
Не скажу, что это категорически плохо и бездарно, но ждала большего.
вторник, 04 июля 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
До чего докатились - в этом сериале меня стали бесить все, абсолютно все женские персонажи.
Кейтлин... вот из-за нее всё! Если бы она сидела на пятой точке ровно - ничего бы не было. Из-за ее авантюризма страдают все: Беннет, Роуз, Джексон... да даже Голем, которого она использовала для получения информации. Бедняга Роуз тоже от нее пострадала: получается, Лонг Сьюзан хотела использовать ее в качестве временной няньки, не считаясь с чувствами Роуз.
Хотя сама Роуз тоже добра - иногда ее реакции напоминают истерические, и она совершенно не может внятно высказать свои претензии, не может распознать и принять чувства другого человека. В конце так она со своими истериками может сойти за умалишенную.
Но апогей моей раздражительности - Матильда. Я не понимаю, как с такой дочерью у Рида еще не появился нервный тик. Во-первых, она тоже лезет не в свое дело и слишком самонадеянна. Во-вторых, как все молодые люди, она считает, что она адекватно оценивает ситуацию, а старшие все только брюзжат без достаточных на то оснований. В-третьих, меня исключительно раздражает ее внешность, ну не могу я на нее смотреть.
Второстепенные женские персонажи тоже не вдохновляют. Журналистка тоже перебарщивает со своим ЧСВ, мадам, с которой встречался Рид, вроде бы неплоха, но ее слова о Матильде, выглядят так, как будто она на нее стучит, что не добавляет ей симпатичности.
В целом, вновь затрагиваются все темы, которые актуальны и в наше время. Актуальны в современной Великобритании, вроде нашествия эмигрантов и отношения к ним в обществе. И среди эмигрантов, и среди коренных жителей есть разные люди. Есть эмигранты, которые едут в другую страну с единственной целью - быть нахлебниками и паразитами, есть коренные жители, которые в любом приезжем видят врага и говорят, что это "понаехавшие" мешают им спокойно жить, лишают рабочих мест, хотя на самом деле не очень-то эти местные хотят искать работу, они просто хотят искать виновных в своих неудачах, а чужаки отлично подходят на эту роль.
Отдельно отмечу показанное развитие криминалистики. Оно, конечно, эпизодами показано, потому что не в этом суть сериала, но все равно эти моменты, особенно после прочитанного "Века криминалистики", интересны. В частности, здесь капитан Джексон сталкивается с разными группами крови и изучает расположение брызг оной.
В роли констебля внезапно появляется Мэтью Льюис, он же Невилл Лонгботтом из "ГП", который с усами очень смешной.
В общем, все мило и приятно в этом сериале, кроме женщин и участи Беннета.
Кейтлин... вот из-за нее всё! Если бы она сидела на пятой точке ровно - ничего бы не было. Из-за ее авантюризма страдают все: Беннет, Роуз, Джексон... да даже Голем, которого она использовала для получения информации. Бедняга Роуз тоже от нее пострадала: получается, Лонг Сьюзан хотела использовать ее в качестве временной няньки, не считаясь с чувствами Роуз.
Хотя сама Роуз тоже добра - иногда ее реакции напоминают истерические, и она совершенно не может внятно высказать свои претензии, не может распознать и принять чувства другого человека. В конце так она со своими истериками может сойти за умалишенную.
Но апогей моей раздражительности - Матильда. Я не понимаю, как с такой дочерью у Рида еще не появился нервный тик. Во-первых, она тоже лезет не в свое дело и слишком самонадеянна. Во-вторых, как все молодые люди, она считает, что она адекватно оценивает ситуацию, а старшие все только брюзжат без достаточных на то оснований. В-третьих, меня исключительно раздражает ее внешность, ну не могу я на нее смотреть.
Второстепенные женские персонажи тоже не вдохновляют. Журналистка тоже перебарщивает со своим ЧСВ, мадам, с которой встречался Рид, вроде бы неплоха, но ее слова о Матильде, выглядят так, как будто она на нее стучит, что не добавляет ей симпатичности.
В целом, вновь затрагиваются все темы, которые актуальны и в наше время. Актуальны в современной Великобритании, вроде нашествия эмигрантов и отношения к ним в обществе. И среди эмигрантов, и среди коренных жителей есть разные люди. Есть эмигранты, которые едут в другую страну с единственной целью - быть нахлебниками и паразитами, есть коренные жители, которые в любом приезжем видят врага и говорят, что это "понаехавшие" мешают им спокойно жить, лишают рабочих мест, хотя на самом деле не очень-то эти местные хотят искать работу, они просто хотят искать виновных в своих неудачах, а чужаки отлично подходят на эту роль.
Отдельно отмечу показанное развитие криминалистики. Оно, конечно, эпизодами показано, потому что не в этом суть сериала, но все равно эти моменты, особенно после прочитанного "Века криминалистики", интересны. В частности, здесь капитан Джексон сталкивается с разными группами крови и изучает расположение брызг оной.
В роли констебля внезапно появляется Мэтью Льюис, он же Невилл Лонгботтом из "ГП", который с усами очень смешной.
В общем, все мило и приятно в этом сериале, кроме женщин и участи Беннета.
суббота, 01 июля 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
Радзинский в своем репертуаре: с долей экзальтированности и мистицизма он компонует выдержки из дневников императорской семьи, исторические реалии за пределами Зимнего дворца и собственные измышления на тему. Неустанно напоминает о том, чем всё закончилось, и любое появление числа 17 в жизни царской семьи дополнительно подчеркивается.
Эмоциональность автора вкупе с самыми личными и трогательными размышлениями главных участников событий не оставляет равнодушным. Трудно читать и понимать, что в том числе и сами люди своими действиями и своим бездействием приближают трагедию. Трудно разделить отношение к царю и отношение к человеку. По-человечески – жалко, и читать про расстрел приходится через силу, потому что подло, и мерзко, и противно. Тяжело быть не на своем месте, и я так думаю, Николаю было не совсем уютно в своей главной роли: при всей доверчивости его и его близких, мягкости, набожности и несклонности к интригам, невыносимо сложно быть в политике, где все основано на фальши, лицемерии и попытках получить как можно больше, делая при этом как можно меньше. Но все же… здорово напрягает весь этот раздрай в умах и сердцах и какая-то пассивность в борьбе с этим. У Николая была идея – объединить царя, бога и народ, идея хорошая, но смирения и принятия у него слишком много. У того же народа есть хорошая пословица: «На Бога надейся, а сам не плошай», и кроме желания нужны еще и действия, организованные, систематичные, последовательные.
Впрочем, раздрай был во всей стране, и то же пребывание царской семьи под арестом было сопряжено с моментами неорганизованности и хаоса. В самом расстреле и последующем захоронении также много «белых пятен» и нестыковок, многое неизвестно, и это дает возможность ученым и просто любопытствующим развивать свои теории и версии. Естественно, предположения, что кто-то из царской семьи мог выжить, тоже имеют место. Если версию о том, что кто-то из девушек мог спастись, можно рассматривать как относительно правдоподобную, то версия с выжившим наследником лично для меня сомнительна. Как мог выжить «тепличный» мальчик во время беспорядочной стрельбы, последующей поездки к месту захоронения, а потом прожить n-ное количество времени в полевых условиях? При том, что его носили на руках и боялись на него дышать. Если только ситуация не была на самом деле легче, чем представляли ее члены семьи.
Как бы то ни было, вопросов здесь больше, чем ответов, несмотря на активный поиск истины автором, обнаруженные документы и полученные свидетельства. Что не отменяет самого главного факта – произошедшей трагедии, абсолютно бесчеловечной и безжалостной.
Эмоциональность автора вкупе с самыми личными и трогательными размышлениями главных участников событий не оставляет равнодушным. Трудно читать и понимать, что в том числе и сами люди своими действиями и своим бездействием приближают трагедию. Трудно разделить отношение к царю и отношение к человеку. По-человечески – жалко, и читать про расстрел приходится через силу, потому что подло, и мерзко, и противно. Тяжело быть не на своем месте, и я так думаю, Николаю было не совсем уютно в своей главной роли: при всей доверчивости его и его близких, мягкости, набожности и несклонности к интригам, невыносимо сложно быть в политике, где все основано на фальши, лицемерии и попытках получить как можно больше, делая при этом как можно меньше. Но все же… здорово напрягает весь этот раздрай в умах и сердцах и какая-то пассивность в борьбе с этим. У Николая была идея – объединить царя, бога и народ, идея хорошая, но смирения и принятия у него слишком много. У того же народа есть хорошая пословица: «На Бога надейся, а сам не плошай», и кроме желания нужны еще и действия, организованные, систематичные, последовательные.
Впрочем, раздрай был во всей стране, и то же пребывание царской семьи под арестом было сопряжено с моментами неорганизованности и хаоса. В самом расстреле и последующем захоронении также много «белых пятен» и нестыковок, многое неизвестно, и это дает возможность ученым и просто любопытствующим развивать свои теории и версии. Естественно, предположения, что кто-то из царской семьи мог выжить, тоже имеют место. Если версию о том, что кто-то из девушек мог спастись, можно рассматривать как относительно правдоподобную, то версия с выжившим наследником лично для меня сомнительна. Как мог выжить «тепличный» мальчик во время беспорядочной стрельбы, последующей поездки к месту захоронения, а потом прожить n-ное количество времени в полевых условиях? При том, что его носили на руках и боялись на него дышать. Если только ситуация не была на самом деле легче, чем представляли ее члены семьи.
Как бы то ни было, вопросов здесь больше, чем ответов, несмотря на активный поиск истины автором, обнаруженные документы и полученные свидетельства. Что не отменяет самого главного факта – произошедшей трагедии, абсолютно бесчеловечной и безжалостной.
среда, 28 июня 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
Три поколения одной семьи, сто лет, в течение которых род Буссарделей множится, укрепляет свои позиции, и вот уже потомки скромного таможенного чиновника диктуют взгляды парижскому буржуазному обществу.
Несмотря на богатую событиями французскую историю, Эриа оставляет на первом плане жизнь конкретной семьи, основные эпизоды и ключевые моменты, которые определяли дальнейшее развитие Буссарделей, а события общественного и исторического порядка появляются лишь в качестве объяснения тех или иных изменений в укладе жизни семейства.
История Буссарделей, начавшаяся с Флорана (хотя на самом деле с его отца, личность которого осталась в тени как для читателя, так и для героев-потомков), продолжилась в его сыновьях и внуках. За счет того, что в каждом поколении автор уделяет большую часть времени кому-то одному, а остальные члены семьи остаются на периферии, есть ощущение, что потомки что называется «мельчают» и не показаны, потому что не представляют собой ничего более-менее значительного и заслуживающего внимания. Если жизнь самого Флорана Буссарделя показана от и до, то из сыновей-близнецов внимание уделяется только жизни Фердинанда, а среди многочисленных внуков – Викторену. И это не считая дочерей и внучек. Вообще, у Эриа есть какие-то феминистские нотки: он не давит на тему притеснения женщин, игнорирования их мнений, потребностей и желаний, но эпизоды, связанные с отношением к женщине, яркие и показательные. Все Буссардели умудрились испортить жизнь женщине, и не одной, причем, делалось это так походя, как правило, без всякой задней мысли и угрызений совести, что это производит неизгладимое впечатление и вся последующая жизнь и деятельность героев несет на себе отпечаток того эпизода и принятого тогда решения.
Тем не менее, следить за тем, как Буссардели покоряют одну вершину за другой, обзаводятся нужными связями, переживают личностные и семейные кризисы, увлекательно. Есть, конечно, моменты, когда становится скучновато, но при большом объеме книги, мне кажется, это неизбежно.
Достойная семейная сага, с описанием быта и нравов парижских буржуа на протяжении XIX века, не столь известная, но от этого не менее заслуживающая внимания.
Несмотря на богатую событиями французскую историю, Эриа оставляет на первом плане жизнь конкретной семьи, основные эпизоды и ключевые моменты, которые определяли дальнейшее развитие Буссарделей, а события общественного и исторического порядка появляются лишь в качестве объяснения тех или иных изменений в укладе жизни семейства.
История Буссарделей, начавшаяся с Флорана (хотя на самом деле с его отца, личность которого осталась в тени как для читателя, так и для героев-потомков), продолжилась в его сыновьях и внуках. За счет того, что в каждом поколении автор уделяет большую часть времени кому-то одному, а остальные члены семьи остаются на периферии, есть ощущение, что потомки что называется «мельчают» и не показаны, потому что не представляют собой ничего более-менее значительного и заслуживающего внимания. Если жизнь самого Флорана Буссарделя показана от и до, то из сыновей-близнецов внимание уделяется только жизни Фердинанда, а среди многочисленных внуков – Викторену. И это не считая дочерей и внучек. Вообще, у Эриа есть какие-то феминистские нотки: он не давит на тему притеснения женщин, игнорирования их мнений, потребностей и желаний, но эпизоды, связанные с отношением к женщине, яркие и показательные. Все Буссардели умудрились испортить жизнь женщине, и не одной, причем, делалось это так походя, как правило, без всякой задней мысли и угрызений совести, что это производит неизгладимое впечатление и вся последующая жизнь и деятельность героев несет на себе отпечаток того эпизода и принятого тогда решения.
Тем не менее, следить за тем, как Буссардели покоряют одну вершину за другой, обзаводятся нужными связями, переживают личностные и семейные кризисы, увлекательно. Есть, конечно, моменты, когда становится скучновато, но при большом объеме книги, мне кажется, это неизбежно.
Достойная семейная сага, с описанием быта и нравов парижских буржуа на протяжении XIX века, не столь известная, но от этого не менее заслуживающая внимания.
вторник, 27 июня 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
понедельник, 19 июня 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
пятница, 16 июня 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
Я посмотрела этот фильм с третьей попытки. Мне было страшно.
Главная героиня Сара ослепла, упав с лошади. В ее отсутствие пришел маньяк и перебил всю ее семью. Сара, которая думала, что они уехали в гости, ничего не заподозрила, вернувшись домой. И ночевала в одном доме с трупами. А тем временем маньяк понимает, что оставил в доме улику...
"Слепой ужас" напомнил мне другой фильм, Дуэль. Так же как героиня не видит убийцу, мы его тоже не видим: вначале показывают только его сапоги, потом, постепенно, начинают показывать руки, как он смывает кровь, но лица его мы не видим, и картинка построена так, что мы не видим ни одного героя с ног до головы, чтобы понимать, что это не убийца, например. Поэтому вполне возможным оказывается вариант, что убийца где-то рядом ошивается, но мы не знаем, что это он. В тех эпизодах, когда его показывали, создавалось впечатление, что он бесконечно отмороженный тип, жестокий, агрессивный, впадающий в ярость как только что-то не так, как ему хочется. В итоге, с личностью убийцы тоже оказывается все не так просто.
Именно первая половина фильма нагнетала на меня ужас, здесь собрались все мои страхи. Героиня, находящаяся одна в доме с трупами и не подозревающая об этом, абсолютно беспомощная, убийца, который может в любой момент вернуться, замкнутое пространство дома-фермы, когда вокруг ни души и даже на помощь некого позвать. Душила меня эта атмосфера.
Когда все же трупы обнаружились (а это отдельная жесть), стало чуть полегче: по крайней мере, героиня узнала о случившемся и была уже не так беспомощна, да и действие вышло за пределы дома.
Несмотря на небольшой хронометраж (и благодаря ему), картина получилась яркой, эмоциональной и все, что было показано, было по делу, без воды. Фильм смотрибельный и ужасающий, скорее за счет психологизма и напряженного ожидания, когда вернется убийца и поймет ли к этому времени Сара, что в доме все мертвы.
Главная героиня Сара ослепла, упав с лошади. В ее отсутствие пришел маньяк и перебил всю ее семью. Сара, которая думала, что они уехали в гости, ничего не заподозрила, вернувшись домой. И ночевала в одном доме с трупами. А тем временем маньяк понимает, что оставил в доме улику...
"Слепой ужас" напомнил мне другой фильм, Дуэль. Так же как героиня не видит убийцу, мы его тоже не видим: вначале показывают только его сапоги, потом, постепенно, начинают показывать руки, как он смывает кровь, но лица его мы не видим, и картинка построена так, что мы не видим ни одного героя с ног до головы, чтобы понимать, что это не убийца, например. Поэтому вполне возможным оказывается вариант, что убийца где-то рядом ошивается, но мы не знаем, что это он. В тех эпизодах, когда его показывали, создавалось впечатление, что он бесконечно отмороженный тип, жестокий, агрессивный, впадающий в ярость как только что-то не так, как ему хочется. В итоге, с личностью убийцы тоже оказывается все не так просто.
Именно первая половина фильма нагнетала на меня ужас, здесь собрались все мои страхи. Героиня, находящаяся одна в доме с трупами и не подозревающая об этом, абсолютно беспомощная, убийца, который может в любой момент вернуться, замкнутое пространство дома-фермы, когда вокруг ни души и даже на помощь некого позвать. Душила меня эта атмосфера.
Когда все же трупы обнаружились (а это отдельная жесть), стало чуть полегче: по крайней мере, героиня узнала о случившемся и была уже не так беспомощна, да и действие вышло за пределы дома.
Несмотря на небольшой хронометраж (и благодаря ему), картина получилась яркой, эмоциональной и все, что было показано, было по делу, без воды. Фильм смотрибельный и ужасающий, скорее за счет психологизма и напряженного ожидания, когда вернется убийца и поймет ли к этому времени Сара, что в доме все мертвы.
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©
Создается впечатление, что книга изначально писалась с прицелом на возможную экранизацию: настолько она кинематографична и отдает голливудщиной, дух эпохи появляется эпизодически, скорее действия и выражения героев (вроде «гребаный» и «быдло») характерны для современности. В итоге именно это и подводит – слишком велико ощущение стереотипного блокбастера и слишком мало на этом фоне ощущение катастрофы и трагедии.
Главный герой, акварий Марк Аттилий, оказывается в гуще событий: его предшественник таинственным образом исчез, в акведуках пропала вода, да еще красавицу, похожую на его покойную жену, от отца-тирана спасать приходится. В общем, всё располагает к тому, чтобы главный герой показал себя во всей красе – и как честный человек, и как профессионал, и как храбрый мужчина. Однако ведет себя он предсказуемо, его действия и выбор не дают никакой интриги, нет сомнений, что книга закончится тем, что Марк Аттилий со своей пассией красиво уйдут в закат, держась за руки, на фоне падающих вулканических осколков.
Тем не менее, понравилось подробное описание системы акведуков, того, как хорошо организована и отлажена была эта система. Какие-то моменты с извержением Везувия автору удались, паника людей и бессилие человека перед мощью природы, появлялась атмосфера катастрофы. Особенно запомнился эпизод с Плинием (да и в целом этот персонаж показался более ярким), его любознательность и научный интерес, которые оказываются сильнее даже страха смерти, и вот это выглядит действительно эффектно.
Главный герой, акварий Марк Аттилий, оказывается в гуще событий: его предшественник таинственным образом исчез, в акведуках пропала вода, да еще красавицу, похожую на его покойную жену, от отца-тирана спасать приходится. В общем, всё располагает к тому, чтобы главный герой показал себя во всей красе – и как честный человек, и как профессионал, и как храбрый мужчина. Однако ведет себя он предсказуемо, его действия и выбор не дают никакой интриги, нет сомнений, что книга закончится тем, что Марк Аттилий со своей пассией красиво уйдут в закат, держась за руки, на фоне падающих вулканических осколков.
Тем не менее, понравилось подробное описание системы акведуков, того, как хорошо организована и отлажена была эта система. Какие-то моменты с извержением Везувия автору удались, паника людей и бессилие человека перед мощью природы, появлялась атмосфера катастрофы. Особенно запомнился эпизод с Плинием (да и в целом этот персонаж показался более ярким), его любознательность и научный интерес, которые оказываются сильнее даже страха смерти, и вот это выглядит действительно эффектно.
суббота, 03 июня 2017
Я не очень понятно говорю, но я не очень понятно и думаю ©